menu

Фиат Метрополис
Numéro 9 : Fiat Metropolis
Contre le fait métropolitain
Contre le fait métropolitain
Против феномена метрополии
Стремительная погоня за природой метрополии
Метрополия (слово metropolis происходит из средневековой латыни: «столица провинции»; и от греческих метрополий, означавших «материнский город») - это главный город географического региона или страны, который, становясь во главе значительной городской территории благодаря большому населению и экономической и культурной деятельности, позволяет выполнять организационные функции во всем регионе, над которым главенствует.
Феномен метрополии
«У меня спрашивают: «Ну так что, зачем нужны метрополии?»
Но вопрос не в этом: метрополии существуют. Они стали тем местом, где к лучшему или к худшему формируется мир будущего, вот почему их судьба касается абсолютно каждого.»
Бурдин Ален, «Быть метрополией в неопределенном мире», 2017, международная конференция POPSU
Так что, все как будто бы сказано? Метрополии уже здесь. Они результат спонтанной нуклеации наших старых городов или же простого их разбухания, о чем намекают такие эпитеты, как «Большой Париж» и «Большой Лион». Так что можно сказать, что это природное явление, которому часто придаётся добродетельный характер определениями «экологичный» и «устойчивый». Ему удаётся избежать образа щупальцевого, растущего во всех направлениях города при помощи термина «уплотненный город».
Природа, учрежденная законом.
Тем не менее, вдали от этой теории градостроительного дарвинизма французские метрополии учреждаются законом MAPTAM (Закон о модернизации территориальных публичных действий и утверждении метрополий) от 1го января 2015 года, фиксирующим новый устав об установлении межмуниципального взаимодействия - метрополию.
Этот закон следует за докладом «комиссии Аттали», которая в 2007 году выступила за создание «Суперкоммун» как одной из мер по восстановлению экономического роста. Эта реформа должна была позволить упростить и уточнить набор квалификационных навыков, снижая количество и уровни органов местного самоуправления. Но прежде всего реформа должна была произвести экономию за счёт масштаба и структур: чем меньше структур, тем меньше выборных должностных лиц, меньше государственных служащих и, следовательно, меньше расходов.
Формула проста, но откуда взялась сама идея суперкоммуны?
В начале был символ, продукт глобального анализа мирового населения городов.
Выставка Мутация («Mutation»), задуманная Ремом Колхасом и воплощенная в жизнь Жаном Нувелем в Бордо в 2000 году, объявила, что к 2025 году на Земле будет насчитываться 5 миллиардов горожан. При помощи множества карт и спутниковых фотографий, посетители выставки осмотрели планету или, по крайней мере, ее основные городские агломерации. Это должно было стать хладнокровным свидетельством очевидного, но анализ социальных, экономических и политических причин был явно неполным.
Феномен метрополии был установлен. Отныне обязанность сосуществовать с ней лежит на каждом.
Не может быть и речи о том, чтобы излишне задаваться вопросом о роли Международного валютного фонда или о мировых конфликтах. Мы наблюдаем за планетой, как мышь, вскрытая на лабораторном столе. Но с высоты птичьего полета становится ясно - метрополия уже здесь. Однако, возможно (только возможно!), прежде чем распространять её главные принципы и делать её основой нашей повседневной городской и политической жизни, было бы уместно задать вопрос о самих причинах её возникновения. Эти причины, без сомнения, многочисленны, а их разнообразие периодически связано с очень специфическими ситуациями. В этой статье мы ограничимся тем, что напомним о возможной связи возникновения метрополии с политикой МВФ и, в частности, с применением Вашингтонского консенсуса на примере Москвы 1990-х годов.
Москва как лаборатория метрополии.
Или метрополия как градостроительная форма Вашингтонского консенсуса.
Хотя этот термин совсем не много значит для жителей российской столицы, и хотя для того, чтобы понять, как создать Большую Москву, власти обратились к французским планировщикам и логофетам Большого Парижа с Антуаном Грумбахом во главе, вполне вероятно, что Москва во многих отношениях стала тестовым пространством по созданию феномена «метрополия» ещё в 90-х годах прошлого века. Это один из тех политических, экономических и градостроительных эпизодов, которые необходимо изучать, чтобы покончить с натуралистической, даже дарвинистской риторикой, которая представляет метрополию как естественное и необходимое будущее нашего жизненного пространства.
«Нам нужны миллионы собственников, а не горстка миллионеров». Борис Ельцин.
Россияне надеялись, что их уровень жизни существенно улучшится благодаря более эффективному функционированию экономики. Именно это заставило их принять пакет неолиберальных реформ (либерализация цен, торговли, уменьшение влияния государства и так далее), связанный с приватизацией.
В своей книге «Приватизация в России и рождение олигархического капитализма» Седрик Дюран уточняет, что «приватизация, проведенная в России в 90-е годы, представляет собой величайшую из когда-либо проведенных реформ собственности. Несмотря на то, что в начале десятилетия подавляющее большинство производств относилось к государственному сектору, в 1998 году уже около 70% ВВП производится в частном секторе. Это изменение в пропорциях частной и государственной собственности является ключевым элементом столь радикальной трансформации. Оно знаменует конец и провал советского эксперимента. Однако, системное изменение, которое привело к полному переходу к капитализму, было чрезвычайно дорогостоящим. Снижение экономической активности продолжалось до 1998 года. Эта грандиозная депрессия была столь же колоссальной, как и Великая Депрессия в США в начале 1930-х годов. Помимо роста неравенства ухудшились такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, образование молодежи и прирост населения. Структурный шок приватизации является основополагающим фактором этого национального кризиса.»
Но нельзя сказать, что этот крах является итогом одной лишь несостоятельности советской модели. Такие люди, как Теодор Шанин или Вадим Радаев уже в то время начинают предлагать рассмотреть третий путь развития экономики, который бы не был ни советской плановой экономикой, ни экономикой рыночного капитализма, продвигаемого американцами и МВФ. Таким образом, как отмечает специалист по российскому переходному периоду Мириам Дезерт, они выражали свой отказ включаться в поляризованное поле, отмеченное противостоянием между рынком и планом и характеризуемое четким разделением всех феноменов на относящиеся к тому или иному полюсу. Теодор Шанин и Вадим Радаев утверждали: кто бы что ни говорил, доминирующие системы (как либерализм, так и коммунизм) не могут «колонизировать» всё пространство, над которым они властвуют. «Эксполярные» формы социальной активности, часто называемые «неформальными практиками», безусловно, находятся под влиянием этих доминирующих течений, но они определяются в основном нормами первичных социальных отношений, которые являются способностью жить в обществе.
Однако американские советники одержали верх, побуждая экономику страны и, следовательно, ее города к той модели, с которой мы знакомы сегодня. Истощенная Россия стала для американской администрации лабораторией, где применился так называемый Вашингтонский консенсус - совокупность либеральных экономических мер, относящихся к «периоду Рейгана», направленных, как и доклад Аттали во Франции, на восстановление экономического роста. Этот консенсус был создан основными международными финансовыми институтами, базирующимися в Вашингтоне (Всемирный банк и Международный валютный фонд), и Министерством финансов США. И, изначально предназначавшийся для стран Латинской Америки, он был достаточно грубо применен на постсоветском (в частности, российском) пространстве.
Этот протокол основывается на десяти рекомендациях, разработанных Джоном Уильямсоном в 1989 году:
Поддержание фискальной дисциплины (баланс расходов и доходов),
Изменение приоритетов государственных расходов (в пользу сфер, обещающих большие экономические выгоды, снижение неравномерности дохода),
Налоговая реформа (расширение налогооблагаемой базы, снижение предельных ставок),
Денежная стабильность (низкая инфляция, сокращение рыночных дефицитов, контроль за денежными резервами),
Принятие единого и конкурентоспособного обменного курса,
Либерализация внешней торговли,
Устранение барьеров для прямых иностранных инвестиций,
Приватизация государственных предприятий (для повышения эффективности и снижения задолженностей),
Дерегулирование рынков (снятие барьеров вхождению в рынок и выхода с рынка),
Принятие во внимание прав собственности (в том числе интеллектуальной собственности). Мы не будем здесь анализировать влияние всех этих пунктов на экономику и общую политику России, но остановимся на трех из них (приватизация, частная собственность и переориентация государственных расходов), чтобы представить гипотезу об их влиянии на городские проблемы и на перерождение Москвы в качестве метрополии, случившейся в 90-х годах. В то время как население некоторых крупных российских городов, таких, например, как Санкт-Петербург, в эти кризисные годы уменьшается, население Москвы, согласно статистике, продолжает медленно расти. Однако эта статистическая картина нуждается в уточнении, поскольку не учитывает количество новоприбывших «невидимок»: иммигранты из бывших советских республик или просто-напросто люди без регистрации, как большинство региональных жителей, приехавшие сюда, чтобы попыть счастья в условиях рынка и зарождающегося капитализма и, прежде всего, в пространстве, где отныне сосредоточены все блага, услуги и богатство. Речь идёт о неучтенном населении, которое предлагает дешевую рабочую силу на городских строительных площадках – рабочих, без которых метрополия попросту не может воплотиться в жизнь. Поскольку приватизация государственных предприятий и переориентация государственных расходов свидетельствуют о конце государства всеобщего благоденствия, равно как и о некотором истощении органов государственного аппарата регионов и периферии. Через несколько лет необходимо переучить, заменить государственную службу на службу обществу, которую в какой-то мере предполагают небольшие коллективные или индивидуальные инициативы (маршрутки как развитие частных транспортных компаний, общественные туалеты, управляемые мелкими предпринимателями и т. д.). Оглядываясь назад, можно отметить, что всё это может расцениваться как начало уберизации услуг. Есть только одно отличие: уберизация заключается в том, что так называемый неформальный сектор экономики получает доход от групп, официально включенных в рынок. Итак, люди спешат в Москву, чтобы обрести возможность получать зарплату, недоступную больше нигде, и воспользоваться благами, что исчезают в регионах. И именно так рождается метрополия. Население растет, количество частных земельных участков увеличивается, и всё сильнее проявляется желание добиться от них рентабельности. Самым актуальным примером выступает проект по сносу хрущовок (многоэтажных жилых зданий эпохи Хрущова) и их замене на жилые комплексы башенного типа. Знаменитый уплотненный город, на который надеется и уповает Большой Париж, выдавая его за способ охраны окружающей среды! И вот перед нами определенная форма метрополии, результат раздробления сетевых компаний, упадка государства и концентрации (надо признать, несколько дикой концентрации в Москве 90-х годов) всех благ, ресурсов и услуг. Она далека от того, что проектируют на бумаге. По сути она является плодом грубого применения Вашингтонского консенсуса в находящейся в кризисе стране. Ситуация здесь далека от нуклеации или спонтанной эволюции постсоветских городов, здесь речь идёт скорее о более-менее продуманном создании городского пространства новой экономики. Мы не будем здесь упоминать упущенные возможности, «реалистичные» предложения «новых левых» того времени, которые собирались отойти от реальности и заново создать некую новую модель. Столько данных и столько текстов, которыми французы (архитекторы, инженеры и политики) могли бы воспользоваться, прежде чем слепо копировать эту модель, её жестокость и вызываемое ей неравенство (государственные средства, расходующиеся для частной выгоды, охраняемые жилые комплексы и так далее). С 2002 года, когда были введены законы Жоспен, Франция тоже познакомилась с Вашингтонским консенсусом. Здесь проводится та же политика приватизации и деструктуризации сетевых компаний, в частности, занимающихся электроэнергией и транспортом, уменьшения влияния государства и поступательного исчезновения государства всеобщего благосостояния. И вполне естественным продолжением этих процессов выступает территориальная реформа по метрополизации крупных городов Франции, которая направлена исключительно на адаптацию территории к новой экономической политике. Зачем же продолжать в равной мере возделывать всю землю целиком, если есть возможность сосредоточиться на главном - на метрополии.
Поддержание фискальной дисциплины (баланс расходов и доходов),
Изменение приоритетов государственных расходов (в пользу сфер, обещающих большие экономические выгоды, снижение неравномерности дохода),
Налоговая реформа (расширение налогооблагаемой базы, снижение предельных ставок),
Денежная стабильность (низкая инфляция, сокращение рыночных дефицитов, контроль за денежными резервами),
Принятие единого и конкурентоспособного обменного курса,
Либерализация внешней торговли,
Устранение барьеров для прямых иностранных инвестиций,
Приватизация государственных предприятий (для повышения эффективности и снижения задолженностей),
Дерегулирование рынков (снятие барьеров вхождению в рынок и выхода с рынка),
Принятие во внимание прав собственности (в том числе интеллектуальной собственности). Мы не будем здесь анализировать влияние всех этих пунктов на экономику и общую политику России, но остановимся на трех из них (приватизация, частная собственность и переориентация государственных расходов), чтобы представить гипотезу об их влиянии на городские проблемы и на перерождение Москвы в качестве метрополии, случившейся в 90-х годах. В то время как население некоторых крупных российских городов, таких, например, как Санкт-Петербург, в эти кризисные годы уменьшается, население Москвы, согласно статистике, продолжает медленно расти. Однако эта статистическая картина нуждается в уточнении, поскольку не учитывает количество новоприбывших «невидимок»: иммигранты из бывших советских республик или просто-напросто люди без регистрации, как большинство региональных жителей, приехавшие сюда, чтобы попыть счастья в условиях рынка и зарождающегося капитализма и, прежде всего, в пространстве, где отныне сосредоточены все блага, услуги и богатство. Речь идёт о неучтенном населении, которое предлагает дешевую рабочую силу на городских строительных площадках – рабочих, без которых метрополия попросту не может воплотиться в жизнь. Поскольку приватизация государственных предприятий и переориентация государственных расходов свидетельствуют о конце государства всеобщего благоденствия, равно как и о некотором истощении органов государственного аппарата регионов и периферии. Через несколько лет необходимо переучить, заменить государственную службу на службу обществу, которую в какой-то мере предполагают небольшие коллективные или индивидуальные инициативы (маршрутки как развитие частных транспортных компаний, общественные туалеты, управляемые мелкими предпринимателями и т. д.). Оглядываясь назад, можно отметить, что всё это может расцениваться как начало уберизации услуг. Есть только одно отличие: уберизация заключается в том, что так называемый неформальный сектор экономики получает доход от групп, официально включенных в рынок. Итак, люди спешат в Москву, чтобы обрести возможность получать зарплату, недоступную больше нигде, и воспользоваться благами, что исчезают в регионах. И именно так рождается метрополия. Население растет, количество частных земельных участков увеличивается, и всё сильнее проявляется желание добиться от них рентабельности. Самым актуальным примером выступает проект по сносу хрущовок (многоэтажных жилых зданий эпохи Хрущова) и их замене на жилые комплексы башенного типа. Знаменитый уплотненный город, на который надеется и уповает Большой Париж, выдавая его за способ охраны окружающей среды! И вот перед нами определенная форма метрополии, результат раздробления сетевых компаний, упадка государства и концентрации (надо признать, несколько дикой концентрации в Москве 90-х годов) всех благ, ресурсов и услуг. Она далека от того, что проектируют на бумаге. По сути она является плодом грубого применения Вашингтонского консенсуса в находящейся в кризисе стране. Ситуация здесь далека от нуклеации или спонтанной эволюции постсоветских городов, здесь речь идёт скорее о более-менее продуманном создании городского пространства новой экономики. Мы не будем здесь упоминать упущенные возможности, «реалистичные» предложения «новых левых» того времени, которые собирались отойти от реальности и заново создать некую новую модель. Столько данных и столько текстов, которыми французы (архитекторы, инженеры и политики) могли бы воспользоваться, прежде чем слепо копировать эту модель, её жестокость и вызываемое ей неравенство (государственные средства, расходующиеся для частной выгоды, охраняемые жилые комплексы и так далее). С 2002 года, когда были введены законы Жоспен, Франция тоже познакомилась с Вашингтонским консенсусом. Здесь проводится та же политика приватизации и деструктуризации сетевых компаний, в частности, занимающихся электроэнергией и транспортом, уменьшения влияния государства и поступательного исчезновения государства всеобщего благосостояния. И вполне естественным продолжением этих процессов выступает территориальная реформа по метрополизации крупных городов Франции, которая направлена исключительно на адаптацию территории к новой экономической политике. Зачем же продолжать в равной мере возделывать всю землю целиком, если есть возможность сосредоточиться на главном - на метрополии.
SOMMAIRE DU NUMERO 9
--------------------
--------------------
Commander la version papier
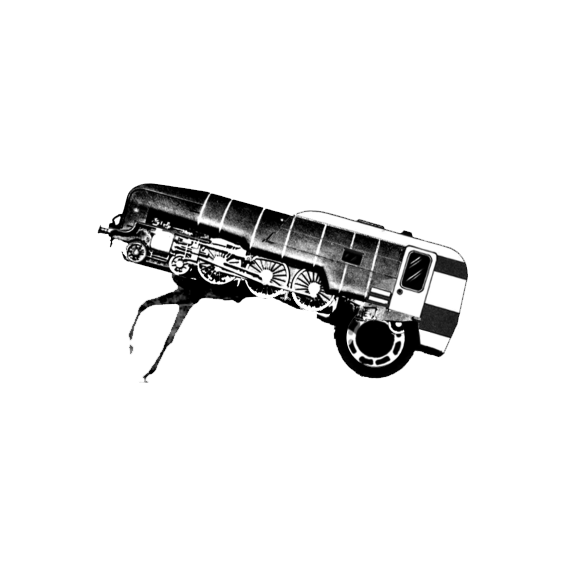



100%




100%
Live Chat is Online 
Chatting
0
×
–
undefined
Powered by